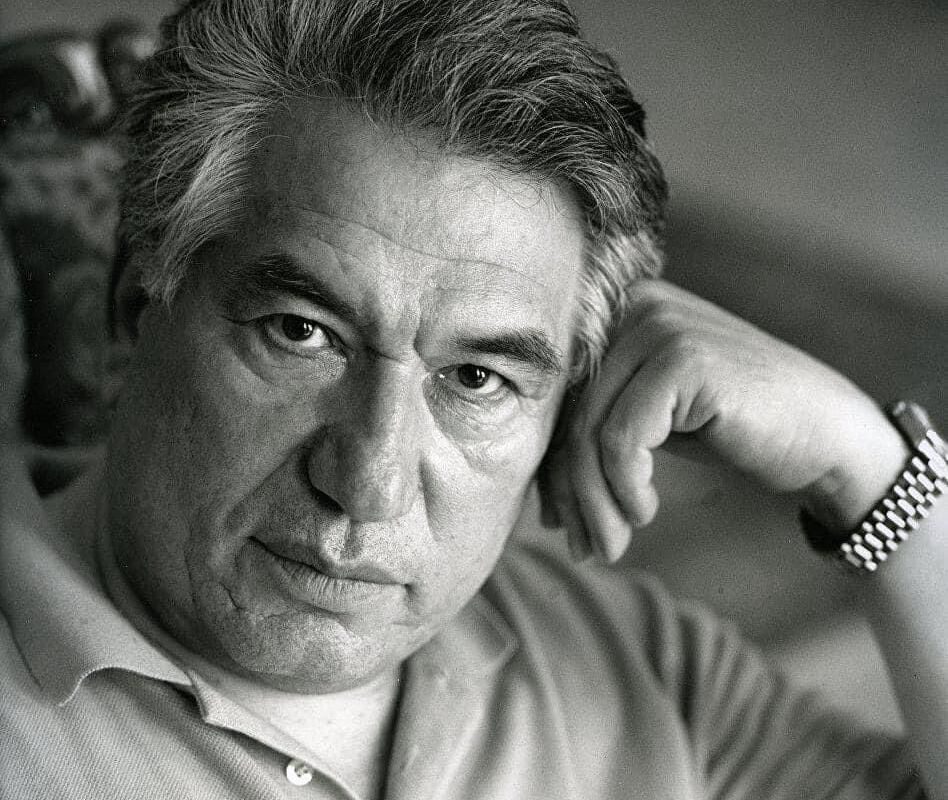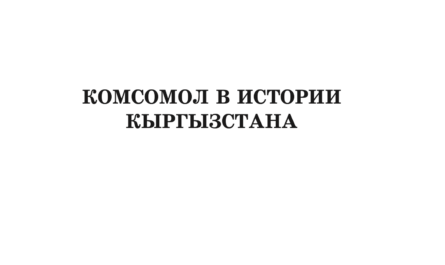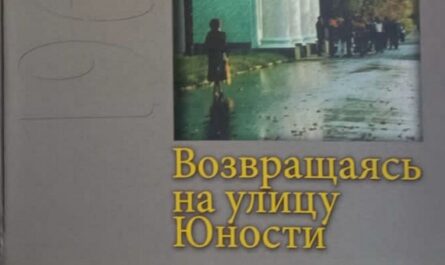Недавно встретил на рынке довольно известного в республике человека – художника, преподавателя, но более известного как общественного деятеля – человека из плеяды тех, коих подарила нам эпоха перестройки 80-х годов прошлого столетия. Бурное время нашей молодости, время надежд на перемены, ожидания чего-то лучшего, чем то, что нас тогда окружало.
Мы не были знакомы, но я знал его братьев, с которыми работал в органах. Я узнал, что его старший брат недавно умер. И, когда увидел этого человека, без лишних церемоний подошёл к нему, поздоровался и представился, и сказав, что недавно узнал о смерти его старшего брата, я выразил соболезнование и поддержку в его семейном горе. Разумеется, моё имя и скромная должность ничего ему не говорили.
Но он был искренне удивлён, удовлетворённо слушал, кивая головой, мои сбивчивые слова соболезнования, в которых я старался выразить слова благодарности памяти его старшего брата, который так тепло и дружески относился ко мне, помогал мне во время совместной работы, будучи старше меня по возрасту и должности.
И, считая, что выполнил свой долг, я хотел уже попрощаться с ним и уйти, но не тут-то было. Он схватил меня за руку, стал горячо благодарить меня, на глазах у него выступили слёзы. Было видно: потеря старшего брата было для него большой трагедией. Выговорившись, он продолжал держать меня за руку. Потом его словно осенило.
– Слушай, дружище, – сказал он мне с чувством, – эти дни были так тяжелы для нас, много было людей, наши трапезы и прочее. Но вот встретился ты, кого я не знаю, и как приятно узнать, что за человек был наш брат. Спасибо тебе! Мне стало легче. А теперь пойдём со мной, здесь рядом маленькое кафе, посидим там, у меня есть минут сорок, потом у меня – деловая встреча. Мне не хочется отпускать тебя так просто, хочу поближе познакомиться с тобой.
В такие минуты отказать человеку во внимании – подлость. И я охотно принял его приглашение, и мы пошли в кафе. По дороге он повеселел и стал рассказывать о своих общественных делах. Сев на своего конька, он уже кажется забыл обо всём на свете – рассказывал о своих коллегах, давал им меткие характеристики, разоблачал по ходу их интриги, не забывая о своей роли во многих политических перипетиях нашей эпохи. Я хорошо знаю таких людей, когда в разговорах с ними нет возможности вставить хотя бы слово. С такими людьми я всегда молчун, что со мной бывает не часто.
И в одном месте своего монолога, он сказал с гордостью, что ему очень повезло со знаменитыми людьми – он лично встречался с Чингизом Айтматовым, Суйменкулом Чокморовым… И он, продолжая длинный список, искоса посмотрел на меня, желая узреть, какой восторг производит на меня его речь. Этой секунды было достаточно, чтобы мне успеть вставить лишь несколько слов:
– Вам сегодня опять повезло! – сказал я с апломбом и, как можно, торжественнее.
Он встал, как вкопанный, уставившись на меня с непониманием. Но, когда до него дошёл смысл моих слов, он разразился громким хохотом. Он обнял меня за плечи. И смеясь сказал:
– Да, дорогой, мне точно повезло, давно я не смеялся от такой хлёсткой шутки. Как я рад, что встретил тебя сегодня.
Затем мы сидели в кафе, распили бутылку водки, делились воспоминаниями о его брате. Чтобы поддержать его заявленный им статус, расспросил о Суйменкуле Чокморове, которого видел лишь однажды: давно, в 1970 году на его встрече со студентами Сельскохозяйственного института. Там я учился на первом курсе гидрофака. Мой новый приятель охотно поделился со мной своими воспоминаниями, и я ещё раз узнавал Чокморова простым, доступным, искренним человеком, желавшим делать в своей жизни людям только добро. Таким он мне и ранее представлялся по книгам и фильмам.
Мой собеседник рассказывал очень интересно и образно, ведь художник и оратор, и сорок минут, которые он благосклонно подарил мне, быстро истекли. Я хотел ещё расспросить его о встречах с Чингизом Айтматовым, но время вышло. Он посмотрел на часы, ещё раз поблагодарил меня, с лёгким сожалением распрощался со мной и ушёл восвояси. Он снова стал общественным деятелем – строгим, подтянутым, деловым, очень ценящим своё время, подчёркнуто вежливым «с народом».
Да, подумал я после ухода политика, с Чокморовым мне не повезло. Но, вот с Чингизом Торекуловичем я же виделся сам, чёрт возьми! И почему бы мне не рассказать своим детям и внукам: каким я его увидел, как читал его книги, как смотрел фильмы по его произведениям и, самое главное, как я познакомился с ним!
Но первая, возможная встреча с ним у меня не состоялась. Это было в далёком 1976 году, когда в конце февраля и начале марта того года состоялся XXV съезд КПСС. Наш преподаватель литературы Владимир Вениаминович Агеносов (в настоящее время – известный литературовед), часто приглашал на встречи с нами писателей, благо многие из них жили в Москве. Наша ВКШ при ЦК ВЛКСМ тогда была авторитетна, многие действующие лидеры зарубежных коммунистических партий когда-то учились в ней. Наш преподаватель старался приглашать знаменитых литераторов – писателей, поэтов, критиков и литературоведов. Но съезд КПСС – это особый случай, его делегатами были особо выдающееся писатели и поэты.
И вот Владимир Вениаминович попросил нас самим пригласить на встречу писателей – делегатов Съезда, своих земляков. Мне поручили пригласить Чингиза Айтматова. Дело было ещё в том, что мой преподаватель очень интересовался творчеством Айтматова, писал о нём, за что получал втыки от своего начальства.
Была зима. Мороз и снег усложняли задачу. Но мы были молоды, и эти издержки московского климата были для нас незаметны. Делегаты съезда находились в гостинице «Россия». Каким-то чудом я пробрался через многочисленные милицейские кордоны (и товарищей в скромных чёрных костюмах) в здание гостиницы. Очень помогли удостоверение слушателя ВКШ, и партбилет в добавок. По моей просьбе вызвали представителя делегации от Компартии Киргизии. Представитель – молодой человек интеллигентного вида лет 30-ти – внимательно выслушал меня, позвонил Айтматову. После недолгих переговоров он с искренним сожалением сообщил мне, что Чингиз Торекулович не сможет принять приглашение, поскольку в этот вечер уже приглашён в другое место.
– Такие дела надо решать заранее, джигит, – в назидание сказал мне симпатичный представитель на прощание с улыбкой. Для меня это было трагедией и ещё долго обижался на писателя.
А навстречу пришли три писателя поэт Алексей Сурков – автор слов песни «Землянка» (Бьётся в тесной печурке огонь), к тому времени уже старенький; грузинский писатель Нодар Думбадзе – к тому времени уже знаменитый; классик молдавской прозы маленький и скромный Ион Друце. Кстати и Думбадзе и Друце – ровесники Айтматова. Встреча прошла замечательно, на ней блистал своим обворожительным юмором Думбадзе.
Представляя гостей, ведущий встречи сказал о Думбадзе что-то вроде: –Из страны великого Шота Руставели приехал к нам, вот: Нодар Думбадзе! И, когда дали слово Нодару, повторив слова ведущего, он добавил: «Что вы хотите этим сказать, товарищ ведущий, что была великая грузинская литература, и вот до чего она докатилась?!» Зал лежал от хохота.
А мне завидно и обидно. Если Чингиз Торекулович принял наше приглашение, он тоже блистал бы не меньше Думбадзе, а я бы гордился этим всю жизнь. Но мне тогда просто не повезло!
И только где-то через год, я случайно узнал, что в этот вечер Айтматов встречался со школьниками простой московской школы № 123, из-за чего он не смог приехать к нам. Узнав о нашем приглашении, он сказал примерно так: – Поеду-ка лучше к школьникам, а с комсомольскими вожаками я и так часто встречаюсь! Так было или по-другому, теперь трудно узнать. Но была информация, что в эту школу его пригласила простая учительница – но, жена большого комсомольского вожака! Но это – уже детали.
За время моей учёбы в Москве с 1975 по 1979 год, имя Айтматова часто звучало в стенах учебных заведений, во время прохождения различных всесоюзных культурных мероприятий. В то время приезд иностранцев в СССР был событием, хотя в ВКШ было много студентов-иностранцев. Но в один день приехали к нам два немца-профессора из Западной Германии. Один из них прочитал нам лекции о молодёжном движении в ФРГ, а второй переводил.
Вечером мы сидели с ними в кафе и беседовали, благо был свой переводчик. А когда мы стали знакомиться, назвав свою фамилию, я сказал, что из Киргизской ССР, город-столица Фрунзе. Они пожали плечами, эти названия им ничего не говорили. Я был обескуражен. Но я дерзнул сказать почему-то: Чингиз Айтматов! Иссык-Куль! И каково было моё удивление, когда эти немцы словно встрепенулись и начали с восторгом говорить, обращаясь ко мне и перебивая друг друга! Но я ничего не понимал! Тогда профессор-переводчик опомнился и стал говорить на русском: – «Конечно мы знаем Айтматова. Он для нас – великий русский писатель!» И стал перечислять произведения писателя, говорить об их достоинствах, проблемах, которые там подняты. Мне было, признаться, несколько неловко: они знали намного больше меня об Айтматове и о его творчестве. И, самое главное, просили передать ему привет, когда я буду дома – на Иссык-Куле!
Тогда, ещё молодой студент, я не придал особого значения этой встрече и словам немецких профессоров. Но потом, со временем до меня стало доходить: как это может быть человек так знаменит, что знают его и его произведения, но при этом не знают его страны!..
Где-то весной на первом курсе мы с другом чеченцем пошли в кинотеатр «Киргизия». В вестибюле кинотеатра, куда мы иногда ходили, были фотографии с видами Киргизии, и на одной из них был Айтматов, ухаживающий за цветами. А пошли мы смотреть фильм «Алые маки Иссык-Куля», он был довольно популярен в Москве. Да и вообще в кинотеатрах Москвы можно было посмотреть фильмы всех союзных республик. И ещё это было время «киргизского чуда» в кино.
После просмотра мой друг шутливо спросил меня, узнал ли я в героях фильма своих родственников. Мой ответ его обескуражил. Я ему сказал, что «отец контрабанды» – мой дед, который был раскулачен, а коммунист – герой Чокморова – дядя моей матери, то есть родной брат моей бабушки по матери. И даже эпизод, когда лошадь срывается и скользит по снежному склону горы, тоже взят из биографии моего деда. Но он не упустил своего коня, а наоборот, он и его друзья, убегая от сотрудников НКВД, сами свалили коней, связали вместе ноги и скатили их с горы. А сами сели на сёдла, и как на санках спустились вниз! Погоня осталась с носом!
А судьба их сложилась трагически: дед бежал в Китай и умер там от болезни, а дядю расстреляли во время репрессий в 30-х годах. Могила его, как могила отца Айтматова – неизвестна.
Сын кулака, мой отец окончил семь классов и стал табунщиком. А сын дяди выучился и стал физиком. Оба выросли сиротами и добились успехов, мой отец стал кавалером ордена Ленина, а дядя сейчас доктор наук и, возможно, станет академиком.
Мне ещё запомнился 1978 год, когда вышел фильм «Белый пароход» и Чингиз Торекулович получил звание Героя социалистического труда. Этот год был полным триумфом Айтматова. Фильм в Москве мы смотрели также с другом в кинотеатре «Киргизия». В вестибюле кинотеатра продавали книжки о фильме и его авторах. Прочитав краткую биографию Айтматова, мой друг сказал: – Прошлый раз ты рассказывал историю своих предков, и мне они показались невероятными, тяжелыми. Но твой отец и дядя прошли эти испытания с достоинством. А сегодня узнаю, что судьба Чингиза Айтматова была не менее трагична – сын репрессированного коммуниста, сиротство, раннее возмужание. И при этом с таким непомерным усилием и мужеством они делают сами себя!
А я спросил: – А как же твои предки?
Он глубоко вздохнул: – Да, почти то же самое. Только нужно добавить – депортацию… Поэтому мы попали к вам…
Мы, почему-то замолчали. Каждый думал о своём.
В то лето (1978 г.) я был дома на каникулах на Иссык-Куле. Мой дядя учёный-физик попросил нас помочь приготовить угощение для Чингиза Айтматова, по случаю получения им высокого звания. Дядя пригласил его на Биостанцию Академии наук в Чолпон-Ате, на берегу Иссык-Куля. Мы с женой крутились возле казана во дворе и на кухне, и обещанное торжественное знакомство с великим писателем состоялось только в конце встречи. Дядя представил меня Айтматову, как студента московского партийного вуза (лучше бы он представил меня как сына табунщика!). Чингиз Торекулович уже розовый от обильного угощения сразу принял серьёзную позу. Сурово пожал мою руку, пожелав мне успехов в учёбе.
Но, увидев во дворе бирюзового цвета шланг, сразу заинтересовался им. Начальник биостанции начал довольно интересно и научно рассказывать ему об особенностях этого шланга с брызгалками, хотя функция последнего ограничивалась поливом каких-то экзотических растений, обильно растущих на территории биостанции. Айтматов стал с интересом расспрашивать о каждом растении и цветке, и начальника биостанции охватило вдохновение. Ведь говорил о своей любимой работе самому Айтматову!
Нужно было видеть вдохновлённого оратора, а ещё интереснее было видеть терпеливого и внимательного слушателя. Писатель с неподдельным интересом слушал биолога, лишь изредка задавал уточняющие вопросы, ободряюще улыбался, когда начальник биостанции, вдруг начинал читать стихи о каком-нибудь цветке, или рассказывал забавные истории о них.
Так вот в чём сила писателя и его секрет! Уметь слушать, запоминать, чтобы потом со знанием дела выразить всё это в своих произведениях. Для меня это, оказывается был – «мастер-класс», совершенно случайно подаренный мне судьбой. Но я этого не заметил, и не понял.
Но судьба мне подарила ещё одну встречу с Чингизом Айтматовым! Она состоялась в мае 1984 года. Тогда я работал первый год замполитом в районном отделе внутренних дел в г. Чолпон-Ата и был в звании капитана милиции. Отработав в усиленных нарядах на первомайских праздниках, которые воплощались 1 мая – в параде в райцентре, а 2 мая – в скачках на ипподроме, мы получили передышку, но приближался ещё один праздник – день Победы. В то время в районе жили 8 участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которые затем работали в органах внутренних дел, вышли на пенсию и жили в нашем районе. Их было: четверо кыргызов и четверо русских. Тогда они были ещё бодренькими и даже старались оказывать помощь нашим сотрудникам, то есть вели наставническую работу. Жили они по разным местам района, и день Победы отмечали у себя в сёлах. Поэтому мы решили их пригласить в отдел 7 мая, провести спортивные игры и торжественное собрание с маленьким концертом в их честь, затем завершить торжество хорошим угощением для них в единственном ресторане в райцентре, а потом развести их по домам. Первый и последний пункты операции (привезти и отвезти) возложили на сотрудников ГАИ. А угощения, как и полагалось в те времена – на сотрудников БХСС. Цветы – на отделение охраны дома отдыха «Аврора», где была своя теплица.
Но стоял главный вопрос – что подарить нашим доблестным ветеранам в этот великий день? Распустив оперативное совещание, мы с начальником отдела пригласили бухгалтера, и спросили у неё: – Какой суммой мы располагаем для покупки подарков для ветеранов. – Тридцать рублей! – ответила она торжественно. И дала мне эту сумму, заставив мне расписаться за них, и строго напомнила не забыть отчитаться потом чеками о покупке.
– Поезжайте, товарищ капитан, купите сувениров, блокнотов, открыток… Главное не подарок, а внимание. А внимание мы им окажем, долго будут помнить! – такими словами напутствовал меня мой начальник. И вдогонку бросил с иронией: – Как сказал классик: книга – лучший подарок!
Я поехал в центр, где и по сей день стоят магазины, и по дороге никак не мог разделить 30 на 8. Но, чтобы разделить по-человечески, решил добавить свои 2 рубля. И не очень надеясь на успех, зашёл в книжный магазин. Меня там хорошо знали, как они шутили: к нам заходит только один милиционер – это вы! Это шутка для меня звучала далеко не комплиментом, за год я уже хорошо изучил уровень и вкусы моих подопечных, и понимал, что их не отличает особенная любовь к чтению. Но были ребята, которые читали – это были студенты-заочники, но они читали специальную, юридическую литературу. А на чтение художественной – при такой работе у них просто не хватало времени.
– Будем читать на пенсии! – отшучивались мои сотрудники.
И эта мысль вслед за напутствием начальника, наверное, привели меня именно в книжный магазин. Продавщицы – две молоденькие девчушки – радостно приветствовали меня: – А у нас новинки, смотрите: какие роскошные издания! И они выложили передо мной два издания произведений Чингиза Айтматова: трёхтомник на кыргызском языке и московское издание – однотомник – на русском. Ах, а цены в то время! Даже сейчас они приводят тебя в восторг, когда рассматриваешь попавшую в руку книгу тех лет!
2 рубля стоил однотомник и 3 рубля – трёхтомник. Итого я уложился в 20 рублей. А на остальные деньги я накупил, как и напутствовал меня начальник, сувенирные блокноты и ручки.
И здесь, рассматривая одну из книг, я вдруг вспомнил, что вчера поздно ночью, проверяя посты, заезжал в пансионат Совмина, который в настоящее время является резиденцией Президента Кыргызской Республики. Там находится домик-коттедж Чингиза Айтматова. Постовой милиционер, находясь возле этого коттеджа, отдал мне честь и тихо стал докладывать обстановку. Я ему громко сделал замечания, что он не на свидании с девушкой, и нечего мне шептать! На что он умоляюще посмотрел на меня, прижимая палец ко рту, прошептал: – Товарищ капитан! Вечером приехал Айтматов! Жена его недавно выходила и попросила быть потише. Он отдыхает.
– Ну, хорошо, – в свою очередь прошептал я, – А что, он со всей семьёй приехал?
– Да, с новой семьёй, товарищ капитан, – с ухмылкой ответил милиционер. До меня дошло, что он имел ввиду. Но я сделал строгое лицо и грозно прошептал, – Чтоб никаких лишних разговоров!
– Есть, товарищ капитан! – но его шепот, больше напоминал шипение змеи, – А женушка у него – классная, – добавил он толи с завистью, толи с восхищением.
И вот теперь я стоял в глубоком раздумье, как Буриданов осёл, и тупо размышлял, не веря своей удаче. Вот книги писателя, которые я купил, совершенно забыв, что вчера он приехал в свой домик. И, сегодня, если наберусь смелости (или наглости, как хотите) подойду к нему, так сказать, пользуясь служебным положением, и попрошу дать автограф моим пенсионерам-ветеранам… Он может сказать, конечно, приехал отдыхать или работать, и мне не до ваших стариков. Нет, не буду его беспокоить.
Но. Я же могу напомнить ему, что мы знакомы. Сослаться на своего дядю. Но это последнее дело – выставлять свой блат. Да и сколько времени прошло. Он вряд ли вспомнит бедного студента. Не пойдёт.
И, решив не беспокоить писателя, я поехал в отдел, но проезжая поворот к пансионату, я решился! Взвизгнула резина от резкого торможения, и мой юркий «Москвич» круто завернул в проезд к историческим воротам знаменитого пансионата. Была ни была, откажет – так откажет, мы не обидимся. Он слишком велик, чтобы заниматься такими делами как поздравление горстки ветеранов из каких-то сёл! Дежурный на воротах удивлённо проводил меня взглядом: я никогда не заезжал сюда днём.
Проехав к самому домику писателя, я остановил машину и подошёл к двери и постучал. Мной охватили какие-то непонятные чувства, такие, например, когда на охоте преследуешь дичь, то не обращаешь внимание на опасности, вроде кочек или ям, на которых можешь спотыкнуться и упасть.
Через некоторое время вышла молодая женщина, лет 35-ти, в расцвете женственности, ухоженная, но несколько утомлённая, видимо, вчерашней дорогой. Она поправила домашний халат, напоминающий кимоно, и несколько с тревогой посмотрела на меня, наверное, из-за милицейской формы, подумал я, редко кому она представляется хламидой ангела.
Я звонко поздоровался и представился. Извинившись, коротко обозначил цель своего визита. Она успокоилась, тревога сошла с её мраморного личика, ещё не тронутого загаром. Она просто, по-житейски сказала мне: – Он сейчас отдыхает после обеда. Вы подойдите, пожалуйста, часа через два. Я ему всё доложу, – с очаровательной улыбкой она аккуратно закрыла за собой дверь.
А я не знал – радоваться мне или отчаиваться. Ведь вопрос не решён. А будет ли решён. Мой план не сработал. Да какой там план! Какая-та спонтанность. Приехал и на те! Сделайте одолжение! Черкните пожалуйста!
Я был зол. Я был в растерянности. Тысячи чувств и мыслей бурлили, как мне тогда казалось, в дурной голове!
Чтобы как-то успокоиться я сел в свою машину и поехал, но не быстро, как мне хотелось в начале, а медленно, а в голове прокручивая свои действия во время встречи с великим человеком. Хорошо, что я виделся с ним раньше. Это несколько успокаивало меня. Но каков он теперь. Будет ли он благосклонен на этот раз?
Незаметно для себя я подъехал к отделу. В отделе во время обеда были только дежурные. Я прошёл к себе в кабинет, не обратив внимание на приветствие дежурного – пред-пенсионного служаки. Он обидится. Потом выговорит. Я его знаю. Но мне сейчас не до него. Надо сосредоточиться и решить дело, но самое важное дело.
В кабинете я стал перебирать свои папки и бумаги. Я не любил работать с бумагами днём. Старался максимально тратить дневное время и своё внимание на личный состав и приём граждан. А с бумагами надо работать вечерами – ведь тишина, и никто не мешает. Но замечал: другие сотрудники не разделяют мой рационализм: они это делают именно днём. Но у них бумаги всегда в порядке, приём граждан только в определённые часы и дни. Зато ровно в 17.00. – домой с чувством исполненного долга.
Пока разбирался с бумагами, чтобы убить с толком эти два часа, они уже незаметно прошли. Стали подходить люди с различными просьбами, проблемами. Я увлёкся и с головой ушёл в работу.
В одно время посмотрел на часы и ужаснулся. Ну, надо же! Убил эти два часа без всякого толку, и уже опаздываю!
Стремглав я выбежал из отдела, не обращая внимание на крики дежурного, который выскочил вслед за мной что-то крича и размахивая какой-то бумагой. Я рванул с места – ну, некогда мне!
Вновь я подъехал к домику писателя. Слава богу, не опоздал. Был солнечный майский день. Кругом бушевала весна! Вокруг цвело всё, что только могло цвести! Жаркий воздух был наполнен запахами то сирени, то цветов яблонь, то одуванчиков, сплошным желтым ковром покрывших лужайки вокруг коттеджей. И сидя на скамейке перед домиком писателя, я успокоился и стал наслаждаться всеми этими запахами, которые услужливо нагонял на меня весенний ветерок, менявший своё направление через каждые пять минут.
Я вытащил книги и положил их на скамейку рядом с собой. Со стороны это выглядело, наверное, странно – милиционер библиофил ждёт писателя!
Но вот дверь открывается и выходит он! Нет, это не выглядело триумфально. Он вышел как-то боком, закрывая за собой осторожно дверь и не смотря на меня. А потом, повернувшись в мою сторону и словно только сейчас заметив меня, промолвил: – Это вы ко мне? Прозвучало это не как вопрос, а как констатация факта.
Он был в домашнем халате розовато-серого цвета, широкие полы которого поправлял на ходу. Это был уже не тот моложавый зрелый человек с подтянутой фигурой. За эти шесть лет он достаточно постарел, седины на голове уже стало больше. А живот предательски выпячивался под просторным халатом. Он явно встал из постели только что и ещё, казалось, до конца не проснулся. Я бы нисколько не удивился, если бы он зевнул.
Он спустился с крыльца. Мы с ним поздоровались за руку, и он спросил меня, с каким делом я обращаюсь к нему. Голос у него был мягкий и тёплый, как и его большая ладонь. Я с волнением, запинаясь стал рассказывать о своих ветеранах, об их подвигах в войне и на службе в милиции, одновременно передавая ему в руки книги. Он с интересом стал их рассматривать, насколько я понял, он, наверное, ещё не видел московского издания.
– И вот я пришёл к Вам просить Вас дать им автограф, если Вас это не затруднит…– залепетал я, часто повторяя слова Вас, Вам, Вы.
– Я понял, – твёрдо сказал он, перебив меня, – Давай начнём. Сказал он, взяв у меня ручку. Это было единственное мое разумное действие в тот день – заготовка ручки. И взяв одну из книг, он перевернул обложку и спросил:
– Так, как зовут твоего первого ветерана, который чуть не стал Героем Советского Союза? Давай, говори: имя, отчество.
Катастрофа! Я же знаю только их фамилии! Я пропал! Такого позора я ещё в жизни не испытывал. Но в такие минуты включаются все резервы твоего разума – память, логика, смекалка. Было бы, конечно, лучше, если бы сделал выписки за эти последние два часа, чем перебирать свои дурацкие бумажки, чтоб убить время!
Я начал вспоминать, ведь готовясь к празднику я изучал их документы. Это и выручило меня, и спасло от позора. Каждому ветерану он написал отдельный автограф по содержанию, начав с обращения по имени отчеству. И я вспомнил все восемь пар имён и отчеств, не перепутав.
От зоркого глаза писателя не скрылись мои метания. Он похвалил меня своеобразно. Он обратился со словом «Балам!». По-русски это выглядит как «Сын», наверное, ближе будет «Сынок!». Но оба перевода не подходят, потому что смысловой перевод – это «Сын мой!». В русском менталитете нет такого обращения. Так может обратиться к человеку у русских только православный священник со словами – «Сын мой».
В любом случае, я был на седьмом небе! Далее он спросил меня: – Кем ты работаешь в милиции?
– Замполитом. Занимаюсь воспитанием личного состава.
– Это хорошо. Я вижу – ты на своём месте. Я впервые даю автограф таким образом. Поздравь их от моего имени! Здоровья им и долгих лет жизни! Тебе большое спасибо от ветеранов, – в его голосе была просто отеческая ласка. – И от меня, – добавил он.
Он поднялся со скамейки, давая понять, что аудиенция окончена, и попросил: – Я приезжаю сюда работать, и мне нужен покой.
– Я это знаю, – весело подхватил я, – все Ваши последние книги написаны здесь. Там так и написано: Чолпон-Ата и год. Я постараюсь с моими милиционерами, что бы здесь даже мухи не летали!
Он улыбнулся, оценив мои знания и браваду. Видя, что я начинаю завоевывать его расположение я предложил ему то, от чего никакой кыргыз не может отказаться, тем более весной.
– Агай, можно Вас попросить об одном разрешении? – обратился я к нему.
– Хорошо. А что я должен разрешить?
– Угостить Вас кумысом! – словно заклинание торжественно сказал я.
У него загорелись глаза.
– Только не сегодня. Я доеду до родителей – они табунщики. Сегодня я закажу им, а завтра, если разрешите, привезу прямо сюда.
– Конечно, привози. Кумыс весной – это же – практически лекарство – это же молозивный продукт! Буду очень признателен, – сказал он, как истинный знаток, и попрощался со мной тепло. Не то, что при встрече!
Окрылённый успехом, я быстро собрал книги, которые вдруг из простой продукции книжной индустрии стали бесценным сокровищем. Приехав в отдел, книги к себе в кабинет решил занести сам, никому не доверяя свою ношу, чем, видимо, удивил дежурного, который уже прислал своего помощника мне подсобить. Сам он вышел ко мне навстречу, держа в руках лист бумаги. «Опять эта бумага!..», – с досадой подумал я, – «Какая-нибудь жалоба или заявление на моих архаров».
Но дежурный с упрёками обрушился на меня: – Товарищ капитан! Вы же поручили мне составить заново составить список ветеранов, которых вы приказали привезти в отдел 7 мая в 11.00. Особенно просили уточнить их имена и отчества, чтобы правильно их написать на поздравительных открытках! А вы не слышите меня. И зашли быстро, и выбежали пулей, видимо куда-то спешили, что я не успел этот список вам вручить…
Дежурный и дальше что-то говорил с жалобой в голосе, что уже ничего не успевает, вот уйдёт на пенсию, если не довольны моей службой, ведь я стараюсь, не отстаю от молодых, а стреляю лучше их из «Макарыча»…
За время его причитаний моя досада, мой нервный напряг, мои приключения с книгами и писателем, чуть не вылились в хороший русский трёхэтажный мат, которому я научился в своем селе среди простого и бесшабашного люда. Но нелепость с этим списком, из-за отсутствия которого там, я чуть не опозорился, но выкрутился, благодаря свое цепкой памяти. Невероятные переживания по поводу – получится не получится. И это всё, видимо, вылилось в мой, наверное, несколько нервный хохот. Я расхохотался так сильно, что из глаз пошли слёзы, чуть не обронил книги, которые ловко подхватил помощник дежурного. А я, всё ещё смеясь, расстегнул воротник рубашки и присел на скамейку. Дежурный с удивлением уставился на меня – таким он меня ещё не видел, а я не в силах говорить от смеха, подозвал жестом помощника дежурного, взяв и раскрыв одну из книг, показал дежурному автограф писателя.
И когда он понял, что это, был удивлён так, что его монгольские глаза, стали круглыми как переспелые смородинки. Но он всё быстро сообразил, почему я мотался туда-сюда, спешил, нервничал, почему-то не взял уточнённый список.
– Молодец, замполит. Да вы настоящий джигит! У самого Чингиза взяли автограф, да ещё всем ветеранам! Да они вам будут благодарны всю оставшуюся жизнь! И, хотя он был намного старше меня, он подчёркнуто говорил мне на «Вы». (Ещё надо иметь ввиду, что в кыргызском языке имеется две формы «Вы», когда вас много это – «силер», а, когда вы – один, но «уважаемый», то – «сиз». Когда мои русские друзья не вникали в эту тонкость, я им объяснял через английский. Вот у них только одна форма «Вы», то есть “you”, то есть и Ты и Вы. Но если ты один, но уважаемый, они обращаются на «Сэр», то есть “Sir”. Вот и всё – наша «Сиз» – это и есть «Сэр»).
Но я прервал его восторги, попросив быть тише, как вчера ночью меня просил постовой в пансионате. Я приказал дежурного и его помощника сохранить всё в секрете, чтобы сделать для ветеранов, да и для всего коллектива – сюрприз. А за огласку обещал наказать строго. Но они и так знали, что от меня зависят и очередные звания, и премии, и карьера. Так что ослушаться замполита, было, как говорится – себе дороже.
И, чтобы не привлекать внимания посторонних к нашим книгам, мы занесли их в мой кабинет, а там я их быстро спрятал в свой сейф. Сказав ещё раз своим коллегам: – Об этом – молчок.
На другой вечер я, как и обещал привёз канистру кумыса Писателю. Но их не было дома. Ко мне вышла экономка, я ей передал свой подарок. Она сказала, что их в гости пригласил директор Конезавода, местный магнат. Очень талантливый руководитель, когда-то был председателем райисполкома в другой области. Но несмотря на понижение в должности, обладал властным характером, и не каждому человеку подавал руку. Слабым местом в его жизни были дети, двое из них были наркоманами, что заставляло его быть уважительным к нашим органам. Мне стало, немножко грустно – в Конезаводе более тысячи лошадей – и там, наверняка, уже есть кумыс. Конкурент был налицо. Но, я свой долг выполнил, и гордый от сознания этого, поехал проверять посты.
И вот наступил долгожданный день. 7 мая день выдался солнечным и жарким. В назначенное время привезли наших ветеранов. В 11.00. начались соревнования по волейболу, настольному теннису, кроссу, шахматам, шашкам. Группу соревнующихся по стрельбе увезли на полигон. Ветераны, их приехало шестеро из восьми, в отстиранных и тщательно отглаженных милицейских мундирах, блистая на полную грудь орденами и медалями, ходили болеть за спортсменов и получали заряд бодрости. Время от времени мы угощали их горячим чаем и кофе, коржиками и пирожными. По окончанию соревнований подвели итоги, наградили победителей. Кубки, грамоты и подарки вручали сами ветераны, и было видно, как им приятно это делать самим. (К следующему году мы изготовили специальные призы их имени, и каждый вручал победителям свой именной кубок! Но это было впереди).
А самый большой и, разумеется самый почётный, кубок победителю по стрельбе вручал сам начальник отдела. Когда мы обсуждали сценарий, он убедительно попросил вручить подарки ветеранам мне. Хитрец – перестраховался, чтобы не выглядеть скрягой!
После вручения призов победителям спортивных соревнований мы часть личного состава пригласили в Ленинскую комнату, на торжественное собрание, посвящённое дню Победы. С коротким докладом выступил я, затем пошли приветствия начальника ГРОВД, руководителей отделений, служб, общественных формирований отдела. Затем состоялся маленький концерт, несколько сотрудников спели военные песни под баян и гитару. В том числе и «Землянку»!
В президиуме сидели ветераны и начальник отдела, а на отдельном столе лежали наши подарки: восемь комплектов книг с блокнотом и цветком-калом сверху. Ветеранов, чувствовалось, они не очень впечатлили – просто знакомый до боли скромненький подарок! Но было также видно, что они всё-таки довольны и благодарны нашим стараниям.
После всех выступлений я взял слово:
– Дорогие ветераны! Разрешите ещё раз поздравить вас с праздником Победы и пожелать здоровья и успехов! Но есть ещё один человек, который очень хотел поздравить вас лично, но очень занят и поэтому через меня передаёт свои поздравления и вот такие подарки!
Я назвал фамилию первого ветерана. Тот бодро встал и как мог вытянулся передо мной по стойке «Смирно!». Я раскрыл книгу, громко прочитал пожелания и добавил: «Чингиз Айтматов. Собственноручно!»
И подняв повыше книгу, показал автограф всем присутствующим. Эффект был потрясающий – возгласы, аплодисменты! А когда я повернулся к ветерану, чтобы вручить подарок – сам был потрясён не меньше: в глазах ветерана стояли слёзы…
И так было с каждым вручением подарка! Закончив торжественную часть, мы оставили ветеранов с молодыми сотрудниками, которые сгрудились вокруг них и с неподдельным любопытством и восхищением рассматривали автографы великого писателя.
Сами, то есть руководство отдела, прошли в кабинет начальника, быстро подвели итоги, поблагодарили сотрудников, оказавшим помощь проведения мероприятия. Затем, когда с начальником остались вдвоём, он пожал мне руку, выразил благодарность за мою работу. Но всё-таки намекнул, что ему, как начальнику, нужно было сказать о сюрпризе. На что я ответил: – Тогда бы не было сюрприза! Он кисло согласился с моим доводом, и было видно, что это было сделать ему нелегко.
Затем мы посадили радостных и говорливых ветеранов в автомобили и повезли в ресторан. От отдела были только двое – начальник и я. Наши сотрудники подготовили шикарный стол. Ветераны после первых же «фронтовых ста грамм» бурно и весело обсуждали свои подарки. Затем пели обрывки фронтовых песен. А дальше пошли воспоминания о дорогах войны и слёзы, слёзы… И каждый тостёр благодарил и славил Чингиза Айтматова.
Когда мы рассаживали их в машины, они прощались весело, но как в последний раз, приговаривая: – Ну, до следующего дня Победы! Дай Бог, доживём! Чике теперь – с нами! А сами держали в руках свои подарки, поглаживая их, как самую драгоценную для них вещь. Тогда я не понимал их восторга, книги как книги. Это понимание пришло позже, когда сам стал ветераном…
После того, как мы проводили ветеранов, мой начальник вновь обратился ко мне со словами благодарности за хорошо проведённое мероприятие и разрешил отдохнуть до утра, чем я не преминул воспользоваться. Я поехал к родителям за кумысом……
Т.А.Тюлегенов,выпускник ВКШ 1979 года:Мои встречи с Чингизом Айтматовым