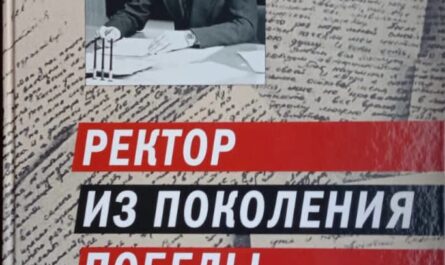Несколько лет назад я опубликовал в «Комсомольской правде» небольшую заметку. Посвящалась она 60-летнему юбилею Школы, ныне носящей имя Московский гуманитарный университет. Заголовок вполне в духе советских времен: «Кузница кадров, кузница судеб». Но предложил его я (большого ума и не требовалось), а редакция приняла.
Набрал в Рамблере три буквы — ВКШ. Поисковая система выдала сотни фамилий выпускников. Бог мой! Министры, губернаторы, вице-губернаторы, руководители предприятий, издательств, газет, партийные лидеры, бизнесмены, депутаты.
В 1944 г. Школа и задумывалась как «кузница кадров». Правда, в военное время на её территории готовили снайперов — защитников Отечества. 18-летняя Алия Молдагулова — самая известная из них. Она погибла зимой 1944-го под Псковом, поведя взвод в решающую атаку после гибели командира. Имя казахской девушки, Героя Советского Союза носит улица, расположенная рядом с МосГУ.
В конце 1960-х гг. первому секретарю ЦК ВЛКСМ Евгению Михайловичу Тяжельникову пришла в голову замечательная идея (замечательная, разумеется, в рамках той, одно-партийной, системы) — отбирать на местах талантливых молодых парней и девчат с высшим образованием и без оного, но с явными лидерскими задатками, доводить их в Москве до полной образовательной кондиции. И возвращать домой уже идейно подкованных молодёжных руководителей.
То, что идея Е.М. Тяжельникова сработала, лично свидетельствую как выпускник ВКШ.
После её окончания в светлые коммунистические идеалы верил беззаветно, линию партии и комсомола утверждал практически, в том числе и на полосах «Комсомолки».
Но школа-вуз ковала кадры не только для российской, туркменской, эстонской и прочей советской глубинки. Здесь учился и образовывался весь левый молодёжный Интернационал мира.
Однажды по электронной почте получил письмо из Дании — приглашение на свадьбу от однокурсницы по ВКШ Алмы Бектургановой. Её жених — датчанин Ян Андерсен.
Я, конечно, вспомнил скромного белобрысого парня, который совсем плохо говорил по-русски, но был безумно влюблён в нашу красавицу казашку Алму, очень похожую на свою знаменитую героиню-землячку. Ян нашёл её по Интернету спустя 15 лет в далёком казахском городе Джамбуле. Нашёл бы, наверное, много раньше, если бы город, где жила Алма, не переименовали в Тараз. А он все эти годы «кликал» на компьютере «Джамбул». Вот такая небольшая заметка.
Тогда я приехать к ним не сумел — работа, семейные заботы. А в этом году уже не смог найти уважительной причины отвертеться — Ян и Алма пригласили меня с однокурсницей Ларисой Варавиной прилететь 1 мая в Копенгаген на 30-летие их вэкашовского «сватовства». «Сватами» на той давней весёлой церемонии выступали мы с Ларисой.
В подвальном зале Копенгагенского университета, где работает на одной из кафедр
Ян, собралось более 50 человек, в том числе и другие выпускники ВКШ — датчане. Большинство из них — социалисты. Ян возглавляет университетскую партийную ячейку, а Алма организацию, отстаивающую права женщин и детей. Их знают многие в городе. Забавно было слышать и видеть, как под сводами университета, который основывали ещё 400 лет назад предки нынешней датской королевы Маргарет, неслись мелодии «Варшавянки», а на стенах висят портреты Энгельса, Че Гевары, Сальвадора Альенде, Ленина. Королеве вряд ли бы понравилось. Но это было всего лишь пение, возвращение в молодость, никакая не фига в кармане. Тем более что весь праздник, на котором искромётно солировали Лариса с Алмой, прошёл настолько ярко и весело, что датчане, уверен, будут до конца дней вспоминать, как «зажигали» они с русскими. Да и Энгельс с Лениным, сумей материализоваться в тот вечер, пожалуй, тоже втянулись бы в остроумное и зажигательное юбилейное действо.
Понятное дело, что в Дании сегодня Ленин не является культовой фигурой. Социализм там строят точно с человеческим лицом. В стране едва ли не самый высокий в Европе уровень жизни. Социальные права граждан при этом защищены так, что нам остаётся только вздыхать и завидовать северянам. Но в том, что это так, мне показалось, есть крошечная заслуга таких выпускников, как Ян и Алма.
Вот в такой ШКОЛЕ мы учились, такие кадры готовили в учебном заведении, ректором которой был Николай Владимирович Трущенко.
Тогда, в 1980-е, фигура ректора, мне, 25-летнему парню из белорусской провинции, казалась исполинской. Он фактурно и вправду идеально подходил под поставленную идеологическую сверхзадачу. Статный, высокий, с благородной сединой на висках, менторский голос, отсутствие всякой спешки в движениях. Плюс биография — участник Великой Отечественной, профессор. Кадровое попадание, теперь я понимаю, было стопроцентным для того, чтобы «лепить» из нас комиссаров 1980-х. Комиссарами стали не все. Неизбежное время перестройки очень быстро сломало не только светлые устремления, но и судьбы многих выпускников. А дальше — уж кто как вписался в новую реальность. Но, приезжая на встречи выпускников ВКШ, я всё равно вижу трущенковский заряд жив в каждом из нас.
Школа оставила слишком глубокий след, чтобы годы могли его стереть.