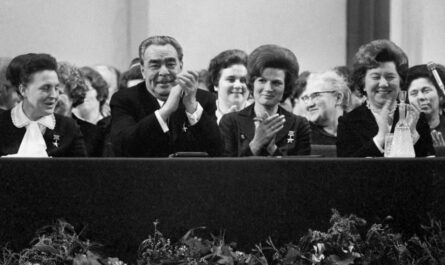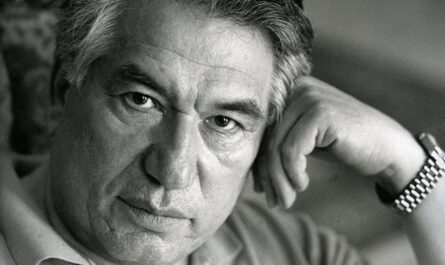Не знаю, кто впервые пустил эту шутку, но она широко бытовала среди слушателей и даже среди преподавателей. Составители учебного плана ВКШ в отличие от многих сегодняшних деятелей образования понимали, что русская литература – нравственная основа общества, во многом заменявшая в России и философию, и педагогику и религию. На четырехгодичном факультете на изучение литературы выделялось четыре семестра (120 часов), что позволяло слушателям успевать прочитать практически все выдающиеся произведения литературы ХХ века: от А. Блока, М. Горького, В. Маяковского и С. Есенина до В. Быкова, В. Тендрякова, Е. Евтушенко, Н. Рубцова. Только из одних названий произведений кто-то из остроумных слушателей составил целый юмористический рассказ об экзамене по литературе. Не могу удержаться, чтобы не привести его целиком. Курсивом выделены программные произведения: «Минувшее» Это было «Необыкновенное лето». У «Маленькой железной двери в стене»» стояли «Люди из захолустья». Начинались «Хождения по мукам». Еще «Никто не знал» «Как закалялась сталь» и потому, как «Железный поток» шла на сдачу экзамена по литературе. «Иду на грозу», «Жди меня», — сказал я «Машеньке» и, как «Птичка божия», вспорхнул в аудиторию. За столом сидел «Петр Первый». Я протянул ему свою «Синюю тетрадь» и понял, что «Солдатами не рождаются». Началась «Битва в пути». «Во весь голос» я рассказал ему «Про это», потом спел «Персидские мотивы» и показал «Письмо к любимой Молчанова». «Хорошо», — сказал мне «Капитан земли». Но «Первые радости» растаяли, как «Горячий снег». «Две зимы и три лета» я скитался «В поисках радости», но везде приходился «Не ко двору». И тут этот «Человек со стороны» проявил ко мне «Жестокость». «С кем вы, мастера культуры?», — спросил он меня. Это был «Разгром». Из моих уст зазвучала «Поэма ухода». «Ситуация», — подумал я и вышел. У двери еще стояли «Непокоренные». «Привычное дело», — сказала мне «Некрасивая девочка», — «Неудачник». Последовали «Проводы». Впереди открывалась «За далью — даль», началось «Возвращение на родину». «Сквозь сосен шум» я услышал, как рыдала «Ивушка неплакучая». Это было «Последнее лето», потом наступило мое «Прощание с юностью». Я не боялся говорить и о только что реабилитированных писателях: И. Бабеле, А.Платонове, О. Мандельштаме, А. Ахматовой, М. Зощенко. Другое дело, что были темы, о которых нельзя было говорить, то, что думаешь (например, творчество А. Солженицына). Но ведь никто не заставлял и говорить то, что не думаешь. Такие темы просто не затрагивались. Наши литературные вечера вели член ЦК КПСС Алексей Сурков, лауреат Ленинской премии К.Симонов. На их фоне вполне приемлемыми оказывались либеральные лекции Тамары Лазаревны Мотылевой о зарубежной литературе ХХ столетия, выступления Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы. К тому же и тогда и сейчас я считал и считаю, что культура и литература не могут быть однополярными. Поэтому наряду с названными писателями среди наших гостей был и писатели иной направленности: редактор «Нашего современника» Сергей Викулов, автор героической комсомольской повести «И это все о нем» Виль Липатов, ярые поклонники таланта Н. Островского Лев Анненский и Марк Колосов, создатель т.н. «производственной драматургии» Игнатий Дворецкий. Скажу честно, что на первых порах было нелегко добиться, чтобы слушатели читали книги. У большинства, чего греха таить, не было читательской культуры: в школе писателей «проходили». Каково же было удивление слушателей, когда они выясняли, что в «Егоре Булычеве» Горький ставит вопрос о смысле жизни и об отношении человека к смерти; что фадеевский «Разгром» заставляет задуматься над отношениями руководителя и коллектива, над сущностью гуманизма, а герои Юрия Трифонова решают проблему выбора, которая регулярно возникает и перед самими ребятами. И когда литература из «предмета» стала частью жизни, материалом для размышлений – литература стала одним из основных предметов. Не буду лукавить, что все и сразу читали охотно. В начале работы в ВКШ пришлось поставить несколько двоек и весьма много троек, что вызвало неудовольствие ректората. На мое счастье в это самое время вопрос об итогах сессии в ВКШ был вынесен на бюро ЦК ВЛКСМ. И когда ректор радостно доложил, что по философии, экономике, комсомольскому строительству и ряду других предметов экзамены сданы без троек, первый секретарь ЦК Е.М. Тяжельников, сам в прошлом ректор вуза, неожиданно сказал, что такое может быть только в одном случае: если требования к студенту занижены. Как мне рассказывали, в наступившей тишине прозвучал следующий вопрос: «А хоть по какому-то предмету были поставлены двойки?». И тут наш руководитель вспомнил обо мне и сказал, что были: по литературе. Престиж Школы был спасен, а я на все последующие годы получил индульгенцию на право строго спрашивать и ставить реальные оценки. Правда, ко второму экзамену даже самые ленивые и нерасторопные начинали читать и даже спорить. Характерно, что никто никогда не жаловался на мою «свирепость». Приведенный юмористический рассказ об экзамене в основном шутка, хотя в каждой шутке есть и элемент правды. И сейчас, много лет спустя, на всех традиционных сборах выпускников ко мне подходят взрослые люди, уже отцы и матери, а то уже и дедушки и бабушки, и говорят, что литература дала им понимание жизни, что они создали свои библиотеки, стараются привить культуру чтения детям и внукам. Прошло ровно 36 лет, как я ушел из ВКШ. Но я до сих пор считаю, что годы работы в ВКШ – лучшие в моей жизни