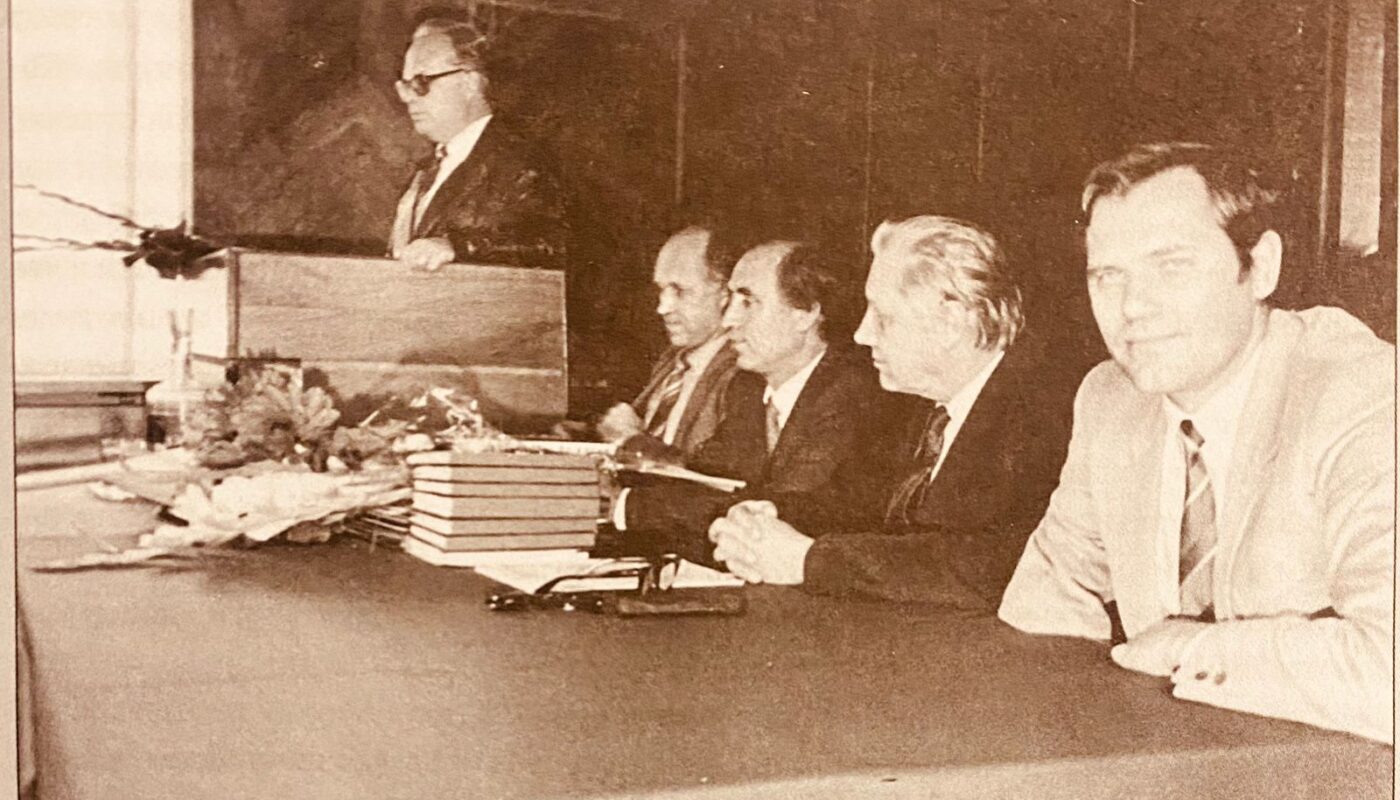Перейти к содержимому
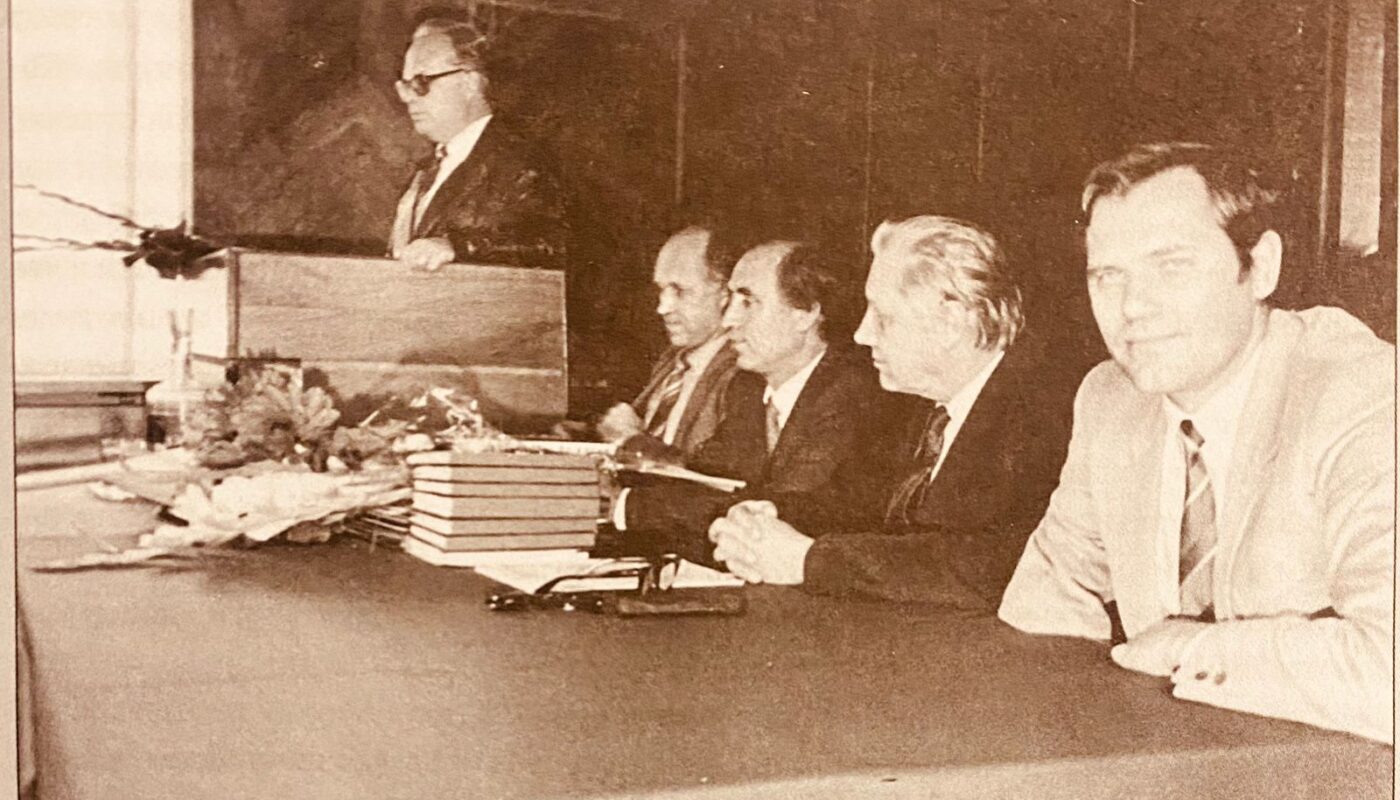
- Когда обращаюсь к светлому образу Николая Владимировича Трущенко уже по прошествии ряда лет после его кончины, то меня обуревает гамма чувств, воспоминаний, размышлений, связанных с этим Человеком, с которым меня свела судьба в ВКШ. Безусловно, он был неординарной личностью, порождением советской эпохи. Эпохи, с одной стороны, окрашенной романтикой гражданской войны и строительством нового мира. Как говорил один поэт, «нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лёд». Ему вторил другой «властитель дум», говоря о «комиссарах в пыльных шлемах», которые склонялись над павшими героями своего времени. С другой стороны, Николай Владимирович принадлежал к тому поколению, в котором из его сверстников (он рождён в 1923 г.), призванных на войну, из сотни «в живых осталось только двое»! Такая жестокая статистика.
Вообще говоря, не зря ХХ в. называют жестоким и железным. Что же касается миро-воззрения, которое вырабатывалось у представителя советской эпохи, то оно несло на себе печать конфронтационности, противоборства «белых» и «красных». К слову сказать, гражданская война, по мнению ряда политологов (например, С. Кара-Мурзы), продолжается и в наше время, несмотря на то, что на дворе XXI в. На долю поколения Н.В. Трущенко выпали серьёзные испытания, в частности, коллективизация. В 1942 г. (немцы тогда стояли под Сталинградом), Сталин, беседуя с Черчиллем, на вопрос британского лидера: «Какой самый ответственный период в жизни страны?» ответил: «Коллективизация».
Бросая ретроспективный взгляд на жизнь и деятельность Н.В. Трущенко, известного учёного, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, задаёшься вопросом: может ли человек выйти из фатального предопределения, обусловленного внешними и внутренними обстоятельствами? Ответ напрашивается такой: да, может, если он (Человек исторический) осознаёт свой выбор, имеет волю к жизни, как сказали бы философы, целеполагание. Не случайно появилась в нашем обиходе формула: «Человек, который делает себя сам». Поражаюсь, какими силой воли, убеждённостью в правоте своего дела надо было обладать, чтобы, превозмогая физические недуги (благодаря неустанным тренировкам, вплоть до использования йоги, он добился, что с него было снято определение «инвалид» — Трущенко вернулся с войны инвалидом 1-й группы) и поднимаясь в своём духовно-интеллектуальном росте, возглавить уникальный комсомольский вуз, где готовили молодёжную элиту.
Физики утверждают, что есть время физическое, время личное, время историческое. Всё это спрессовалось, сжалось, получило необычное ускорение в судьбе Николая Владимировича. После войны требовалось догонять сверстников (предстояло окончить среднюю школу), поступить в институт, аспирантуру. Пройти все ступени вузовской иерархии, набраться социального и политического опыта (поработать на комсомольской и партийной работе), открыть, по существу, новое направление в историко-партийной науке — историю ВЛКСМ.
Как-то услышал, и в моей голове засело такое высказывание: «В кресла (руководящие) нас сажают «генералы»». Таким «генералом» в конце 60-х гг. оказался для горьковского учёного бывший в то время первым секретарём ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельников. В соответствии с решением ЦК партии предстояла реорганизация (перевод) Центральной комсомольской школы, которая была фактически учреждением для курсовой переподготовки комсомольских кадров (хотя было отделение двухгодичное, которое давало незаконченное высшее образование на базе учительского института), в Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. По идее учредителей — это уже качественно новое образовательное учреждение в структуре молодёжной организации. Оно должно давать высшее образование на базе средней школы (для этой цели создавался факультет истории и коммунистического воспитания) и двухгодичный факультет комсомольской работы (высшее политическое образование получали уже состоявшиеся комсомольские работники с высшем образованием).
На этом факультете имелись также отделения специализированные, на которых учились будущие комсомольские журналисты и пионерские работники. Впоследствии, в связи с возложением на ВКШ функции переподготовки кадров областного, республиканского звена, начиная со второго секретаря и до зав. сектором, появился в структуре ВКШ факультет переподготовки. Первых секретарей учили на базе Высшей партийной школы при ЦК КПСС (в поздний советский период — АОН при ЦК КПСС).
После дебатов в ЦК ВЛКСМ и Министерстве высшего и среднего специального образования пришли к единому мнению, что базовым для четырёхгодичного факультета должен стать исторический профиль педвуза. Возникал вопрос: «ВКШ — это ещё один педагогический институт, дополнение к 190 педвузам страны?». Аналогов существования подобных высших заведений в стране, да и в мире не имелось (в ряде стран действовали институты молодёжи, но они занимались научно-исследовательской работой). В стране действовали Высшая партийная школа при ЦК КПСС, а также зональные и республиканские партшколы. Но они готовили кадры для республиканского и областного звена, у них цель и задачи были специфические, их учебные планы не подходили для комсомольского вуза.
Важнейший документ в институте, который определяет содержание и формы обучения, — это учебный план. Тонкость заключалась в том, чтобы, с одной стороны, сохранить набор базовых дисциплин и соответствующих часов, чтобы Министерство высшего образования могло разрешить ВКШ выдавать государственные дипломы, т.е. установленного образца. С другой стороны, необходимо включить в план такие специальные дисциплины, которые действительно обеспечивали профессиональную подготовку и реально помогали будущему комсомольскому работнику осуществлять свои функции. В результате многочисленных консультаций и расчётов, которые под руководством Н.В. Трущенко осуществляла учебная часть, был подготовлен и утверждён в вышестоящих органах учебный план. В штате ВКШ появились кафедры истории ВЛКСМ, организационно-комсомольской работы и массово-политической работы (в 1973 г. эти два учебно-научных подразделения были слиты под названием «комсомольское строительство»: по аналогии «партийное строительство»).
Следует подчеркнуть: к становлению такой учебной и научной дисциплины, как «история ВЛКСМ», Н.В. проявлял особый интерес, имел собственное, оригинальное видение концепции курса. Естественно, оно не всегда отвечало представлениям заведующего кафедрой профессора В.А. Сулемова, который в итоге вынужден был ретироваться — перешёл на кафедру партийного строительства АОН при ЦК КПСС. Но, находясь на новом поприще, он продолжал работать над историей комсомола (в начале 80-х гг. выпустил вторым изданием свою монографию «Союз молодых борцов»). Кроме того, научное издание истории ВЛКСМ было возложено непосредственно на отдел истории и пионерской работы НИЦ ВКШ, который с 1971 г. возглавлял в то время кандидат исторических наук В.К. Криворученко (впоследствии он несколько лет являлся проректором по научной работе ВКШ — директором НИЦ). Владимир Константинович привлек к написанию, помимо московских историков, специалистов по молодёжному движению из Саратова, Ростова, Перми и т.д. Многолетняя работа вылилась в солидный труд под названием «Славный путь Ленинского комсомола», который вышел под редакцией первого секретаря ЦК ВЛКСМ Е.М.
Тяжельникова в конце 70-х гт. годов. Вполне естественно, что в ВКШ, его НИЦ сложилась монополистическая группа историков комсомола. Не случайно, зав. кафедрой Московско-го городского педагогического университета Е.И. Хаванов недавно писал: «Здесь (в ВКШ. — А.К.) сложился целый клан суровых мэтров, которые придирчиво следили за тем, чтобы комсомол — как в прошлом, так и в переживаемой реальности — не позволил бы себе чего-то, не дозволенного «сверху»» (Хаванов Е.И. Дорогами поколений. — М., 2011. С. 197). С этим известным исследователем истории молодёжного движения нельзя не согласиться. Ведущим этого клана был, безусловно, Н.В. Трущенко. За ним следовали А.С. Трайнин. Далее — А.П. Зиновьев. Долгое время не мог в этот список пробиться В.К. Криворученко, пока не защитил докторскую диссертацию в АОН при ЦК КПСС. В 80-е гг. историографические обзоры диссертаций, посвящённых истории молодёжного движения, партийного руководства комсомолом, начинались со ссылок на имена названных учёных.
Что же касается разработки проблем комсомольского строительства, то, на мой взгляд, Николай Владимирович, кроме общих указаний по содержанию рождающейся новой учебной и научной дисциплины, особых суждений не высказывал, не понуждал делать «то-то и то-то». Видимо, проблем хватало, прежде всего административно-хозяйственных, строительных (за время его руководства ВКШ буквально преобразилась: выросли корпуса общежитий, чего стоил третий учебный корпус, комплекс, объединивший современную столовую и спортзал). Помню те времена. Строительные мощности в столице были ограничены. С помощью ЦК ВЛКСМ, лично Б.Н. Пастухова, в то время второго секретаря ЦК, выход был найден — привлечь к сооружению главного учебного корпуса по современному проекту (по которому было сооружено здание Высшей профсоюзной школы) стройбаты Министерства обороны. История запечатлела фотоснимок, на котором Н.В. Трущенко преклонил колени перед руководителем строительного управления указанного министерства, с просьбой ускорить строительство. Это фото (снятое и в шутку, и всерьёз!) вошло в летопись жизни ВКШ как яркое отражение самобытности личности учёного, организатора вузовского процесса.
Возвращаясь к разработке проблем комсомольского строительства как отрасли обществознания, напомню, что дело это не простое, тк. не было аналогов, общественное мнение не воспринимало его как научную дисциплину. Дело доходило до анекдотических ситуаций, когда работы по комсомольскому строительству ставили в раздел строительных (технических) специальностей. Да и поначалу с преподаванием комсомольского строительства на кафедре складывалось не всё гладко. Были такие доценты, которые, защитив кандидатские диссертации по гуманитарным наукам в АОН или ВПШ, не могли различить, что такое спецкурс и спецсеминар. Конечно, со временем всё встало на место, минимум методического мастерства оказался достигнут. В 70-е гг. кафедра комсомольского строительства нарастила и «научно-методические мускулы»: был создан ряд курсов по разделам «Организационно-комсомольская работа», «Участие комсомола в создании материально-технической базы» (ответственные за выпуск и редакторы зав. кафедрой Б.А. Ручкин и доцент М.В. Стуров). Под их редакцией вышли пособия для комсомольского актива в издательстве «Еш гвардия» (Ташкент). Под моим руководством появился курс лекций «Комсомольское строительство. Идейно-воспитательная работа ВЛКСМ. 4. I. (М., 1975), а также сборники и учебные пособия «Совместная деятельность ВЛКСМ с государственными и общественными организациями по коммунистическому воспитанию молодёжи» (М., 1978), «Участие комитетов ВЛКСМ в подготовке специалистов среднего звена» (М., 1979) и др.
Были созданы кафедры пионерской работы (впоследствии — пионерской работы и педагогики), журналистики, конкретной экономики, социологических исследований.
В ВКШ создали кафедру патриотического воспитания молодежи, которую возглавил Герой Советского Союза, лётчик-испытатель Георгий Мосолов. Его в «шутку и всерьёз» называли первым космонавтом, потому что он одним из первых достиг 30 км высоты на истребителе. Встал вопрос об открытии в комсомольском вузе военной кафедры. По предложению В.М. Маргелова, командующего военно-десантными войсками, на должность заведующего этой кафедрой был назначен генерал-лейтенант И.И. Лисов, боевой офицер, участник ВОВ.
Выпускники ВКШ проходили сборы на базе Рязанского училища ВДВ и получали военно-учётную специальность «политработник ВДВ». Закрепляла теоретические знания на четырёхгодичном факультете истории практика в райкомах комсомола, в которых слушатели факультета истории работали в качестве «ответственных работников», говоря языком того времени. Они под руководством преподавателей кафедры комсомольского строительства, которые прошли «школу комсомола» в качестве руководящих работников областного и республиканского звена, а то и ЦК ВЛКСМ, готовили различные мероприятия, в частности, заседание бюро РК комсомола.
Как говорят в народе, талантливый человек — талантлив во всём. Это в полной мере можно отнести и к Н.В. Трущенко. Помимо выдающихся организационных наклонностей, он проявлял свои способности в преподавательской, научной работе. Помню, в 70-е гт. встал вопрос о чтении курса «Исторический опыт ВЛКСМ» на зарубежном факультете. История партии как учебная дисциплина в том виде, в каком она преподавалась советским слушателям, не воспринималась иностранными слушателями. Преодолеть консерватизм, если не догматизм, преподавателей было непросто. Николай Владимирович, несмотря на свою административную занятость, показал личный пример — взялся за чтение, по существу, нового курса — и по содержанию, и по формам подачи материала. Н.В.
Трущенко жил и в мирной жизни по воинскому принципу: «Беру огонь на себя». Случилось так, что приглашённый на должность заведующего кафедрой истории КПСС известный специалист по истории ВЛКСМ профессор I., как говорится, «не потянул». Пришлось Николаю Владимировичу брать груз руководства кафедрой на себя. Только в 1984 г. нашлась достойная смена: к руководству кафедрой пришёл известный специалист по истории молодёжного движения профессор А.П. Зиновьев, одновременно являвшийся проректором по учебной и воспитательной работе ВКШ. Н.В. взял за правило вставать за несколько часов до начала работы и творить «по законам красоты и логики», создавать новые труды. Так, результатом, по существу, ежедневного труда, явилась документальная книга о генсеке ЦК комсомола Александре Косареве, которая вышла в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ».
Ещё одно из дарований Н.В. Трущенко — умение писать, логично и просто выражать мысли на бумаге. Он мог бы при стечении обстоятельств, конечно, быть спичрайтером самого высокого класса. Мне не раз приходилось в этом убеждаться, когда вместе с ним (так распоряжалась судьба и некоторые мои профессиональные качества, а именно: пять лет я отдал профессиональной журналистике) работал над проектами выступлений Л.И. Брежнева перед комсомольской аудиторией, различных документов ЦК ВЛКСМ. Практика того приснопамятного времени была такова, что обычно работали три группы параллельно, не вступая друг с другом в контакты. Это группы в аппаратах ЦК партии, ЦК комсомола и в ВКШ. Не давалось из «инстанции» (т.е. ЦК КПСС) никаких руководящих указаний по поводу предстоящих встреч Генсека с молодёжью. Определялось только выступление на определённом партийном или комсомольском форуме. А так — карт-бланш, на усмотрение пишущих. Н.В. Трущенко размышлял: «Леонид Ильич — в возрасте. Поэтому его выступление — это заветы молодежи. Писать надо короткими, рублеными фразами. Не надо их усложнять длинными синтаксическими оборотами. Там (он показал рукой вверх) есть специалисты, которые разукрасят, что мы напишем. При условии, конечно, если примут». Как показала жизнь, принимали «там» далеко не всё. Может быть, один-два абзаца. Правда, ряд мыслей, высказанных за «вождя», мелькал в документах ЦК ВЛКСМ. К поручениям «сверху» Николай Владимирович относился со всей ответственностью. Уходили с ним в «подполье». Своему секретарю в приёмной он давал указание: «Приглашать, если звонит только секретарь ЦК комсомола».
Время нивелирует, скрашивает то, что тогда казалось волнующим, актуальным, даже несправедливым. Н.В. Трущенко был руководителем своей эпохи, порой жёстким, если не жестоким. Как говорят, кого не взлюбит — за Можай загонит. Помню, как он проводил рабочие совещания заведующих кафедрами. Начинал он его словами: «Моё ректорское видение таково». И далее начинал (по кругу) безапелляционным тоном говорить о недостатках в работе сидящих за столом в его кабинете. Доставалось всем, без исключения. Независимо от научных званий и возраста. В последние годы его ректорства зав. кафедрой по две недели не мог попасть к нему на прием.
Исключением не был и я. В 1983 г. пришёл к назначенному часу. Время шло: час… два.
Наконец, появился ректор. Взглянув на меня, видимо, уловив моё нетерпение, спросил:
«Чего играешь желваками?». «Наверное, проголодался» (время было как раз обеденное), — пробурчал я в ответ. «Ну, что там у тебя», — спросил он меня. Достал ежедневник, записал в него день и фамилию пришедшего на беседу. Я ставлю первый вопрос — положительного ответа не получаю. Второй, третий, четвёртый, пятый… Посещение оказалось безрезультатным. В порыве неудовлетворения встаю: «Больше к Вам на приём ходить не буду». Как можно расценить моё протестное движение сейчас? Может быть, тем, что не выдержали нервы.
А в то время это было продуманное действие. Вернувшись после почти двухлетней командировки в Афганистан, как тогда говорили, «на войну», я руководствовался принципом:
«А что мне терять? Я смерти смотрел несколько раз в лицо. С какой стати я должен раболепствовать?» Возмездие наступило незамедлительно. Когда встал вопрос о докторантуре, то ректор стал, прямо скажем, придираться по чисто формальным моментам. «Анатолий Акимович, едва улыбаясь, говорил Трущенко, — пожалуйста, принесите мне текст будущего докторского сочинения. Оно должно быть не менее 60% объёма и плюс рекомендательные письма ведущих учёных по теме. И покажите, вот введение, вот гл. 1, вот параграфы 1 и 2 и т. Д». Короче, уход в докторантуру растянулся на несколько лет, но он всё-таки состоялся накануне перевода Н.В. в АОН при ЦК КПСС.
Довольно сложные отношения складывались у Н.В. Трущенко с некоторыми проректорами, в частности с Ю.Н. Афанасьевым, который впоследствии стал рупором «горбачёвской перестройки, поистине ставшей катастрофической» (А.А. Зиновьев). Оппонент ректора типичный выходец из комсомола. После окончания МГУ прошёл путь ответорганизатора ЦК ВЛКСМ, второго секретаря Красноярского крайкома, первого заместителя руководителя Всесоюзной пионерской организации. Затем учёба в АОН при ЦК партии, защита диссертации, посвящённая критике французской буржуазной историографии Октябрьской революции. Далее карьера складывалась так: секретарь парткома ВКШ, проректор по учебной и воспитательной работе. Противоборство ректора и проректора длилось более 10 лет: у того и другого имелась поддержка «наверху». Столкнулись сильные характеры, не желающие поступиться ни на йоту. В ВКШ ходила молва, что они (два могучих по телосложению мужика), бывало, бросали друг в друга стулья. А официальные (субординационные) отношения осуществлялись через секретарш. В 1984 г. Ю.Н. Афанасьев уходит сначала в Институт всеобщей истории, затем зав. отделом истории журнала «Коммунист». В большую политику он уходит уже с должности ректора Московского историко-архивного института (впоследствии РГГУ).
Человек многомерен. Справедливости ради следует сказать, что стиль общения со слушателями и аспирантами был другой, нежели с административными лицами: благо-желательный, заботливый, внимательный к их нуждам. По ВКШ ходила легенда, имеющая реальные основания. Однажды Николай Владимирович посетил общежитие. Он постучал в закрытую дверь комнаты, где молодые люди устроили празднество. На вопрос: «Кто?» он ответил просто: «Коля!» Каково было их изумление, когда перед ними предстал ректор.
Я поинтересовался у Н.В. Трущенко: так ли это было. Он кивнул и показал обручальное кольцо на руке, которым он стучал в дверь слушателей, нарушающих правила проживания в общежитии в те советские времена.
В последний раз я видел Николая Владимировича у него дома незадолго до смерти.
Он перенёс тяжелейший инфаркт. Я, разумеется, поинтересовался здоровьем. В ходе беседы затронул вопрос, не пишет ли он мемуары — ведь у него за плечами богатая, насыщенная жизнь. Ответ был отрицательным: он тяжело перенёс события 1991 г., их назвали на Западе «второй русской революцией». Дневники, которые вёл на протяжении своей работы в ВКШ, он сжёг. Во время кратковременного пребывания в семейном кругу мне раскрылось ещё одно его дарование — живопись. Это увлечение (квартира была увешана ландшафтными этюдами), на мой взгляд, граничило с творчеством художника-профессионала. Жанровые зарисовки очень правдиво воспроизводили природу средней полосы России. Я поинтересовался, картины — плод натуры или воображения? Оказалось, воображения.
Заканчивая свои краткие воспоминания о Н.В. Трущенко даровитом человеке, большом учёном, хочется прибегнуть к сравнению: звезды нет, а свет от неё долго ещё виден в нашем мироздании.